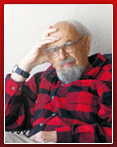Глава 44 |
Глава 44
Больная Р. Поступила с диагнозом «прединфарктное состояние».
- Людмила Петровна, что вас привело к нам в больницу?
- Высокое давление поднялось.
- Как давно вы страдаете высоким давлением?
- Да вообще, знаете, так более упорно около 3 лет.
- А до 34 лет вы были совсем здоровой женщиной?
- Ну были кризы знаете, один раз в год, так что-нибудь понервничаю иногда.
- И в чем они выражались, эти кризы?
- Давление поднималось, приезжала скорая.
- А как вы узнавали, что повысилось давление, что надо вызвать скорую?
- Ну, знаете ... голова. И даже не так, голова у меня всегда болела, как сердце начинало вот жечь, я понимала, что это у меня, видимо, давление и потом тошнота, морозит, колотит, ну в общем ...
- Морозит?
- Ну начинает знобить как-то, вроде не холодно и вмете с тем бьет, понимаете.
- Еще чего-нибудь в это время ощущали?
- Нет, это все.
- А голова так и не болела?
- Да вы знаете, голова как-то меньше всего болела, чем вот сердце жгло.
- А это жжение в области сердца, в каком месте? Вы можете пальцем показать?
- А оно у меня и сейчас печет так же.
- Где?
- Ну вот именно в этой, левой стороне (обводит большую область, почти всю передне-боковую поверхность левой половины грудной клетки). Мне и сейчас кажется жарко и, вообще, нехорошо.
- Часто бывает такое ощущение тошноты, дурноты?
- Ну, вообще, вы знаете, прежде всего, конечно, у меня нервы никудышные. И сама это прекрасно знаю. И на нервной почве. Я сама мнительная страшно. И боюсь, каждую секунду боюсь.
- Чего боитесь?
- Вот, что умру.
- А сердцебиения бывают во время этих приступов?
- Жжение.
- Перебоев никаких нет, вы не ощущаете?
- Да нет, я бы не сказала.
- Во время такого приступа или после него в туалет сильно тянет?
- Это в смысле криза? Ну, по-маленькому – да, обязательно. Как только сделают укол, приедут, говорят, вам надо полежать, а я встаю, мне непременно надо в туалет, помочиться.
- И мочи больше, чем обычно?
- Да нет.
-А бегать приходится часто?
- Нет, один раз схожу и все, я, знаете, не могу делать на это акцент, нет.
- И какое давление бывает в таких случаях?
- Знаете, вот у меня самые высокие цифры 170/100, это уже казалось мне, что это катастрофа. А этот раз было очень высокое – 180/120, чего я уж очень испугалась.
- А причина для этих кризов или приступов?
- Вы знаете, во-первых, я стала плохо спать, это все из-за нервов. Совершенно без причины в напряжении нахожусь.
- И давно уже?
- Я даже не могу спокойно об этом говорить. Вы знаете, вот до такой степени, что не после чего, вот что-то ночью будет, какая-то тревога, какая-то мелочь, там готова ли сыну рубашка на утро в школу, или там что другое. Ну такая мелочь, что вообще не должна волновать, а оно меня лишает жизни, понимаете? В общем мне ужасно тяжело.
- И это что, постоянно так за последние годы?
- За последний год, примерно, прямо это все хуже и хуже. Я прямо чувствую, что я качусь, что надо что-то с собой делать. Н как, ну что? Если полчаса мужа с работы нет – ну, все. Сын где-то поехал на мопеде прокатиться. На доверии он, на полном, знаю, что никуда не выедет, ни на дорогу и вообще, все как на иголках, с угла на угол, все-все, ужасно.
- Дома у вас спокойно?
- Ой, господи, да уж так хорощо. Я думаю, еще не дай бог было бы чего не так, тогда совсем ... и на работе все хорошо. Может быть, уж слишком все хорошо. Я не знаю, говорят, может быть действительно, если что бы случилось, клин-клином что ли. Уж очень я сама чувствую, что я сконцентрировала все свое внимание на этой болезни. Вы понимаете? Ну накаких очевидных причин нет, а ведь так подорвала себе нервы.
- Ну, а если подумать, Людмила Петровна, какая-то причина была, может быть в самом начале?
- В самом начале была. Я вам скажу, какая была причина. Вот я лично, вы знаете, я очень доверяю врачам и вообще на меня слово действует магически, врача, понимаете? Если мне врач скажет: «хорошо», а мне будет плохо, мне станет действительно хорошо. Я такая мнительная, что это что-то противоестественное. Вот.
- Это за последние годы появилось, или вы всю жизнь были такой?
- Всю жизнь. Но вы знаете, получилось так, что однажды, у нас в доме был какой-то скандал. Что-то с сыном затеялось, начала ругаться, потом муж пришел, какой-то у них на работе был сабантуй, и я, знаете как бывает, шлея попала, я самая несчастная, ну, начала орать не своим голосом, что называется, я до того накричалась, что я почувствовала, будто у меня что-то там треснуло. И я прямо вся обмякла, осела и тут, если бы меня кто оскорбил бы, у меня не было сил возразить. Я прямо почувствовала, что я перенервничала сильно, понимаете. Разошлась вот, разошлась. Потом все прошло, на утро ничего нет. Где-то дня три прошло, ехала я в трамвае с работы и вдруг мне захотелось глубоко вздохнуть, и у меня не получился этот вдох. Я еще раз попробовала, а у меня никак не получается. Я так испугалась, я выскочила из трамвая, я думала, что умираю. Ну а потом, когда пошла к врачу, к терапевту, конечно, чтобы она мне сказала, что это на нервной почве, что я просто понервничала там, то я бы и забыла про это. Но она мне сказала ... она мне такое сказала, вот именно она виновата, понимаете. Я её встречаю и думаю: «Вот это враг мой ходит по земле!»
- Что же она вам сказала?
- Она мне сказала: «Бойтесь инфаркта» понимаете? Говорит: «Граница инфаркта помолодела». Там какой-то парень у них умер и еще кто-то. Вы знаете (начинает плакать) я с тех пор не жилец. В трамвай я боюсь заходить. В универмаге ... я три года уже не была. Где душно, мне кажется, я умру, понимаете? И с тех пор это все началось. Я себя этим развинтила, понимаете, боязнью, страхом. До того дошло, что я уже дома боюсь одна оставаться, боюсь, что мне станет плохо. Я начинаю прислушиваться, вы понимаете, постоянно, вот постоянно я собой занята. Это ужасно! Вот я иногда на неё смотрю и думаю, вот ты бы хоть день пожила бы, как я живу. Потому что давным-давно у меня так было. Когда я вышла замуж и приехала из Харькова, ну, чужой город, никого нет, родных нет, в чужом дому, как-то какие неполадки, я вообще принимаю все очень близко к сердцу, понимаете. Как-то понервничала и у меня так было.
- И было такое же состояние, как теперь?
- Да, не могла как-то глубоко вздохнуть. Но я попала к очень хорошему терапевту Родионовой, она меня внимательно приняла, посмотрела и говорит: «Ой да что вы, это же все на нервной почве, вы такая молодая, наверное, плаксивая, наверное в кино плачите, вот и я такая же была, а потом подумала, ну что же это, как же мне не стыдно». Вот, понимаете, так она со мной побеседовала, я такая мнительная, такая общительная, что у меня прямо, ну дня через два вылетело все из головы. Меня не глушил страх, все ушло и пропало куда-то. А это ... как она мне такое сказала, что вокруг все мрут, вы понимаете? И я начала умирать, ежедневно вот уже в марте следующего года, через пять месяцев будет ровно три года. Со мной надо что-то делать.
- Скажите, пожалуйста, вам удается хоть иногда отвлечься от этого, почитать, с мужем вместе телевизор посмотреть?
- Ну бывает. Ну бывает, конечно. Вот фильм какой или что. Конечно, я увлекусь или читаю, и на работе там. И отвлекусь, но вы знаете, все равно подсознательно никуда не девается тревога, ну что бы я ни делала, ну самое интересное даже, но где-то есть, сидит и не отпускает. И вот не могу, видите, я даже говорить не могу, вот видите, меня всю колотит. Вот она, вот она виновата, я же говорю, только она виновата, эта врач.
- Вы лучше себя чувствуете с утра или к вечеру?
- Да вы знаете, я же без конца пью все вот эти элениумы, я же плохо сплю и страх и я уже самолечением занимаюсь, то за одно хватаюсь, то за другое, что где услышу.
- Что, кроме элениума, вы еще принимаете?
- И к невропатологу я несколько раз обращалась. Но все это так, посмотрит наспех, опять все эти элениумы да элениумы. А сон от него нехороший, тяжелый. Все такие кошмары, кошмары. А я такая впечатлительная. И все утром разгадываю, и к чему бы это мне приснилось. Сон нездоровый и все сны, сны. Я по полдня над ними думаю, примеряю, к чему бы они. Я стала уже суеверной. У меня есть уже категория снов, которые мне снятся к болезни. И правда, так и получается. Ну честное слово, я вам так говорю. Вот я еще когда-то в детстве слышала от бабушки, что когда купаешься, моешься во сне, ну, это к болезни. Вот вы представляете, у меня в субботу был криз и я лежала и дважды за ночь мне приснилось, два раза, негры какие-то лежат на кроватях и я моюсь, мочалкой еще трусь. И два раза за ночь один и тот же сон. И я думаю, я и так уже такая больная, ну куда же мне еще, и вы представляете, так получилось, что я в больницу попала. Это же ужас! Ну как в них не верить, поневоле будешь верить. Все это, конечно, нервы, я понимаю, но это глубоко-глубоко.
- А что еще, кроме элениума вы принимали?
- Да, в основном, вы знаете, ничего. Вот невропатолог тоже, я ей все рассказала, так же, как вам, а они в одной поликлинике, и она сразу в штыки, понимаете, и уже говорит: «Вы такая мнительная, да ну с вами связываться, вам что ни скажи ...» и вот опять элениум да элениум. Пью и пью, а что толку. И сколько раз я просила, может какие ванны, ну воротник тоже я не могу, потому что одну процедуру приняла, а у меня давление поднялось. Или совпадение. И то она мне говорит: это получилось потому, что вы ждали, что у вас поднимется давление. Вы такая мнительная, вот вы его и ждали.
- А дома резерпин, раунатин регулярно принимаете?
- Пила.
- Ну и как?
- Вы знаете, давление ровное, скачков, конечно, уже не было, но мухи, постоянно черные мухи, и точки перед глазами плавают. Вот утром я встаю, и первое, что меня уже подкашивает – нет ясности, эти мухи, обрывки сажи какие-то плавают, контуры прямо такие тонкие, они плавают, мешают читать, работать».
* * *
Я далек от мысли представлять эти анамнезы в качестве эталонов. Мне только хочется показать, как мы упрощаем, обедняем, нивелируем и искажаем истинную, внутреннюю картину заболевания в своих коротких, собранных наспех и наспех записанных шаблонными фразами анамнезах. Хоорошо собранный анамнез – это клиническое искусство. В конце концов 17-оксикортикостероиды можно определить и у лошади, эхокардиограмму сделать у собаки, но анамнез – это специфический, исключительно человеческий клинический метод. Многие теоретики: физиологи, фармакологи, все те, кто работает на животных, естественно, не могут оценить его важности и студенты, приходя в клинику, тоже ставят этот древний, архаичный метод, лишенный блеска технических и химических новшеств, ниже всех остальных, современных и высоконаучных методов.
В наши истории болезни анамнезы заносятся обычно одномоментно. Дополнения к анамнезу в последующие дни встречаются очень редко. Некоторым врачам кажется, что дополнения компрометируют их, выявляют неполноценность первичной записи. Это неверно. Знакомство с больным – это не моментальная фотография, а длительный многоступечатый процесс. Анамнез неисчерпаем, как сама жизнь. Я радуюсь, когда встречаю в истории болезни «дополнение к анамнезу», такое встречается только у вдумчивых врачей. С каждым новым представлением о болезни возникают новые вопросы. Как часто чуть иначе сформулированный вопрос вызывает новые ассоциации, поднимает из глубин памяти новые детали и приносит важную дополнительную информацию.
Больной 70 лет перенес инфаркт миокарда. В прошлом тяжелоатлет, спортивный судья, активный, крепкий, никогда и ничем не болевший человек. Болей в груди, одышки, перебоев никогда не замечал. И вдруг на дополнительный вопрос: «А к трамваю приходилось подбегать?» слышу:
- Раньше, вот до этой болезни, я, когда иду, вот до остановки остается 15-20 метров, я подбегу, чтобы успеть сесть, меня душило, я не обращал никакого внимания, ну и проходило быстро, я отдохну, отдышусь, сделаю несколько глубоких дыханий, ну как спортсмены делают и все, прошло. Это у меня часто бывало. Иногда я выйду из дома наевшись, у меня тяжело вот здесь (показывает на грудину), а потом остановлюсь, вздоху и пошел, пошел, пошел.
У больной 50 лет со своеобразными кризами и высокими цифрами артериального давления предполагается гипертоническая болезнь. Смущает, что высокое давление впервые появилось во второй половине беременности, других провоцирующих факторов вроде не было, больная лежала в стационаре, говорили о нефропатии беременности.
После установления хорошего контакта с больной:
- У меня уже двое малышей было, я третьего носила, пришел муж пьяный, схватил нож, начал гоняться за нами, кричал, что надо убить меня и детей. С трудом успокоила. Потом дверь скрипнула, он как взовьется: «Это ты любовника прятала, он сейчас ушел». И начал бить меня ... на следующий день вызвали скорую помощь, у меня впервые в жизни повышенное давление нашли. Положили в больницу, все мочу проверяли, удивлялись, что белка в ней нет.
В одном английском журнале недавно был опубликован случай. У полной 66-летней женщины появился частый жидкий стул без примеси слизи и крови до 12-50 раз в сутки, метеоризм, повышенное отхождение газов. Домашнее лечение неэффективно. Через три месяца детальное обследование в стационаре причины поноса выявить не смогло. Различные варианты медикаментозного лечения улучшения не дали. Дополнительный расспрос выяснил, что с целью похудания больная около трех месяцев назад стала использовать жевательную резинку по 50-100 штук в день. В этот сорт жевательной резинки вместо сахара добавлялся сорбит, по 1,7 грамма в одной штуке. Таким образом за сутки больная высасывала от 85 до 170 г сорбита, который и в гораздо меньших дозах вызывает послабление. После отмены жевательной резинки понос прекратился, больная поправилась.
Особенно плохо собирается анамнез жизни. Его обюрократили до предела. У многих студентов сложилось впечатление, что в этом разделе надо написать, что рос и развивался нормально, перечислить перенесенные болезни, специально отметить не было ли сифилиса, туберкулеза, желтухи, переливаний крови и лекарственной непереносимости; у женщин – месячные, беременности, роды – и это называется история жизни.
«В болезнях есть что-то таинственное, начиная с их зарождения. Откуда они приходят? Наш ум привык объяснять все разумными причинами, наконец – известной целью, а тут появляется что-то бессмысленное, подавляющее и, главное, неопровержимо доказывающее бренность человеческого существования. Был человек – и вдруг его нет ... при болезнях страдает не одно тело, а, главным образом, душа, и нет такого инструмента, каким можно было бы измерить, взвесить, сосчитать эти душевные муки. Это с одной стороны, а с другой – именно в болезнях коренятся глубокие основания душевных перемен. Есть своя философия болезней, до сих пор еще не изученная и не написанная. Сплошь и рядом болезнь является роковой гранью, которая разделяет нашу жизнь на периоды, причем человек до болезни и человек после болезни являются совершенно разными людьми, чего не хотят замечать по психической близорукости» (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Собр. Соч. М., 1958, том 10, стр. 272).
Анамнез жизни – это то, что остается, если отбросить все медицинское, это история социальных и психологических связей человека с окружающей средой. Именно здесь врач подходит к индивидуальности, неповторимости больного человека. Мало уметь задавать вопросы, надо уметь слушать и тогда сам разговор, процесс собирания анамнеза, становится лечебной процедурой.
Мы собираем анамнез жизни при первом знакомстве с больным, когда степень внутреннего доверия минимальна. Врач задает вопросы и слушая ответы, тут же строчит на бумаге. И, подобно протоколу при допросе, этот лист останется в деле, и по нему будут шарить потом чужие глаза. И на какую степень откровенности, душевности, искренности мы можем рассчитывать? Мне всгда казалось, что анамнез жизни надо собирать наедине, из палаты я всегда старался выйти с больным в коридор и сесть на диван, в стороне от всех остальных. Я не люблю собирать анамнез в присутствии родных больного. Смотреть его можно при них, а при разговоре они мне мешают. Точнее они мешают больному, он рассказывет не только мне, но и им, и это заставляет его вносить некоторые коррективы, что-то смягчить, а что-то усилить.
И не надо писать, как под диктовку. Я иногда отмечаю на бумаге даты и тут же демонстративно отодвигаю историю болезни, откладываю ручку. Это беседа, разговор, очень часто больной рассказывает вещи, которые вообще нигде не надо фиксировать, но которые так помогают понять его внутренний мир, его внутренюю картину болезни.
Только в процессе такого труда вырабатывается умение разговаривать с больным, если сочувствия, как благодати, не дано изначально. Как все-таки страшно знать, что есть больной, который встретив своего врача, думает: вот идет враг мой. И враг не от неизлечимости болезни, не от бессилия медицины, а от душевной глухости.
Недавно мне рассказали историю. Пятилетняя девочка дома разбила вазу. Мать сгоряча нахлопала её по рукам. Через несколько дней ручки вспухли и потемнели. Пошли к врачу. Тот посмотрел и сказал матери: «Что ж теперь делать. Тут гангрена, надо ампутировать». Вернувшись домой, мать вышла на балкон, крепко прижала к себе дочку и бросилась вниз. При судебно-медицинском исследовании трупа гангрены не оказалось.
Ассистент теоретической кафедры мединститута нащупала у себя в животе какое-то уплотнение. Обратилась к хирургу. Он пощупал и сказал, что это опухоль селезенки. Слезы, бессонная ночь. На следующий день она бросилась к старому, опытному онкологу. Он тоже пощупал, сказал, что это опухоль не селезенки, а кишечника. Что делать? Ну, рентген надо сделать, а там, как хотите, можно прооперировать, а можно и так. Еще несколько бессонных ночей, написано завещание, деньги переведены на имя дочери-школьницы, проведено обследование – опухоли не оказалось.
Все могу понять: трудности диагностики, ошибочную трактовку пальпаторных данных, малограмотность врача, диагностировавшего опухоль селезенки, но эмоциональную тупость, стоящую за этими врачебными высказываниями, ни понять, ни оправдать невозможно. И нет критерия профнепригодности, и идут такие люди в практическую медицину. Иной раз смотришь и думаешь: ему бы в ветеринары – цены бы не было, а роскошь человеческого общения – это не для него.